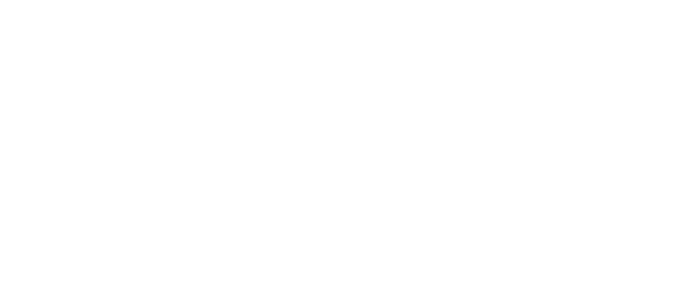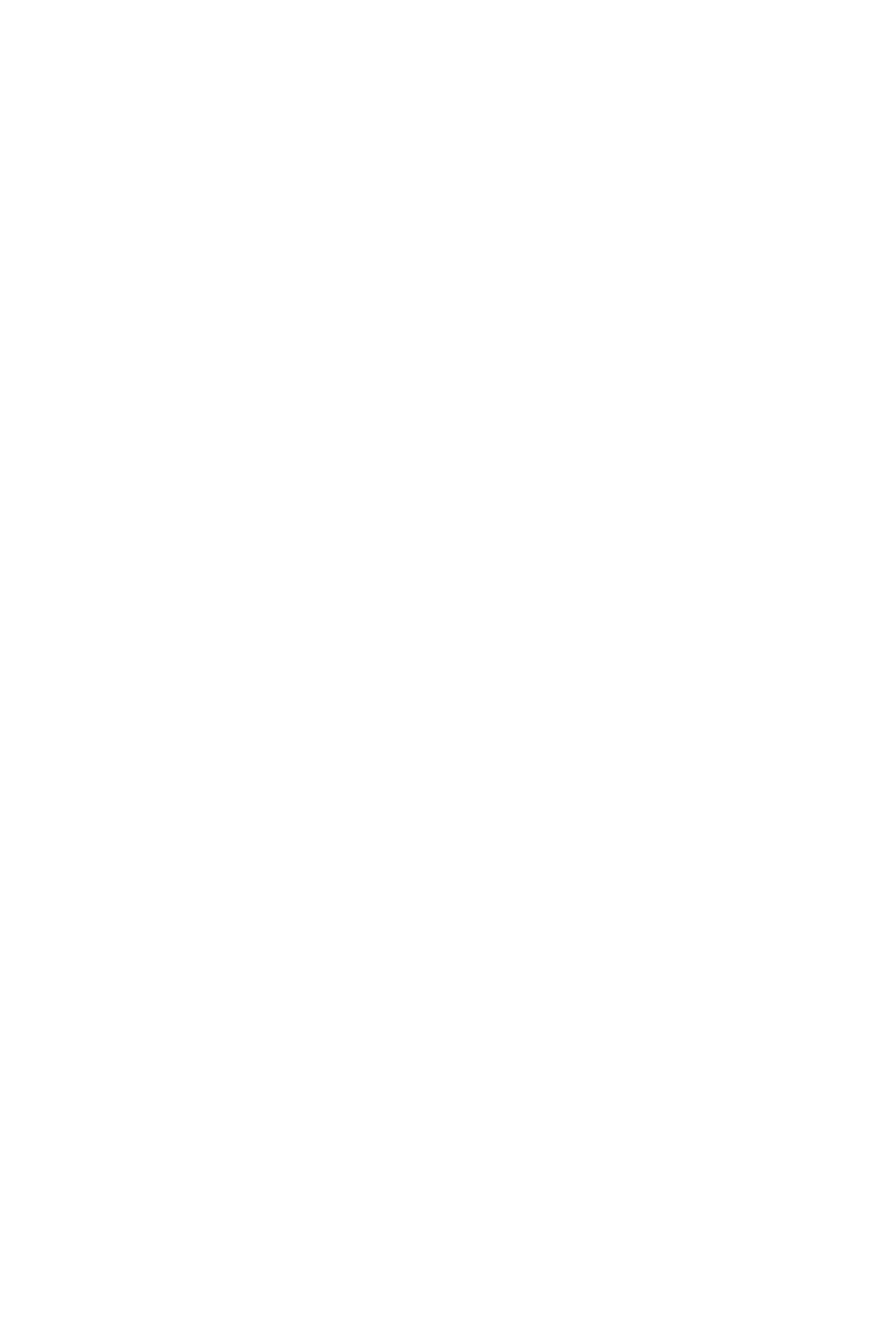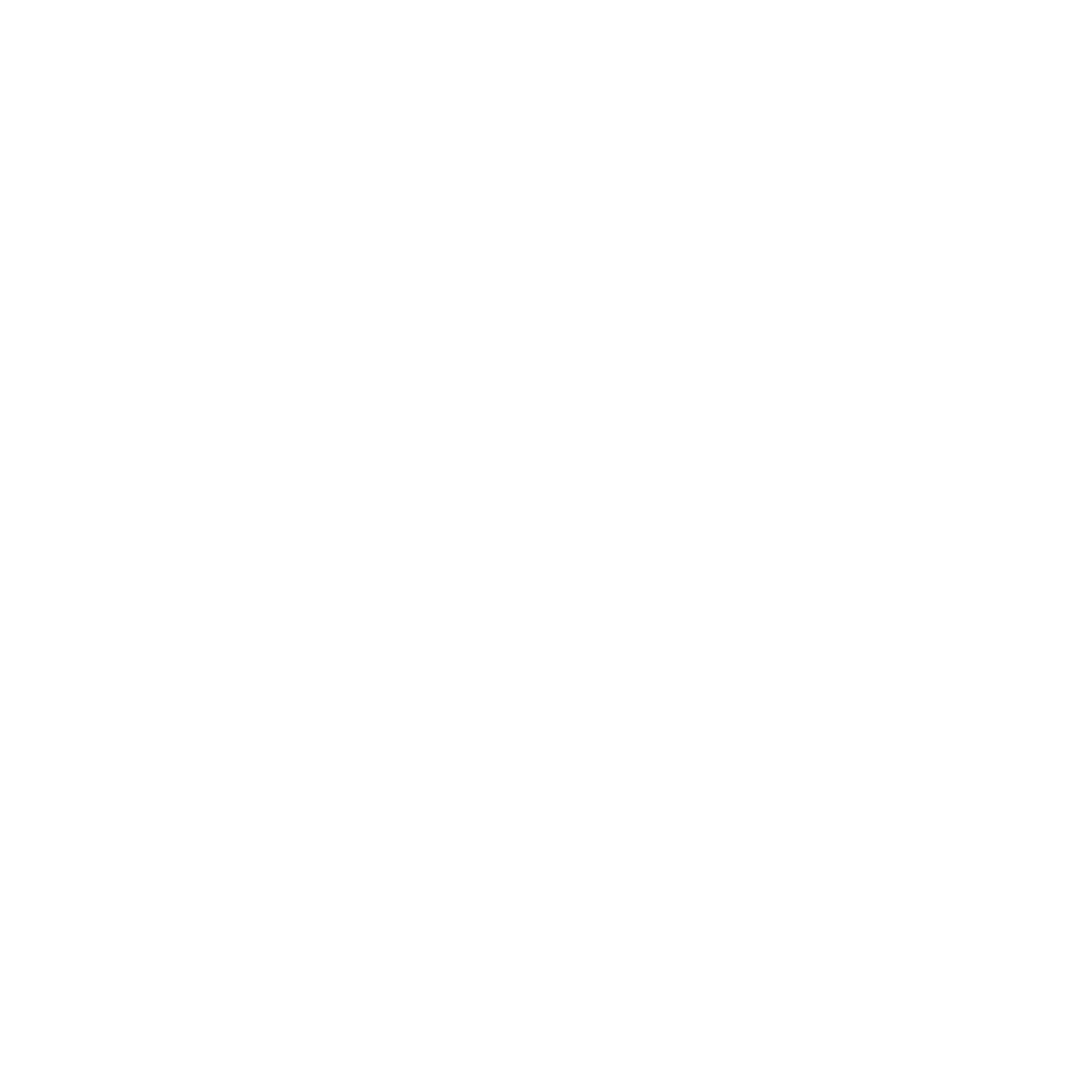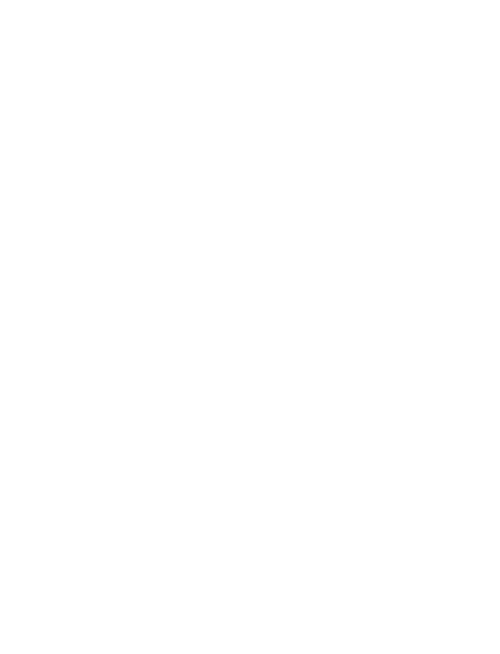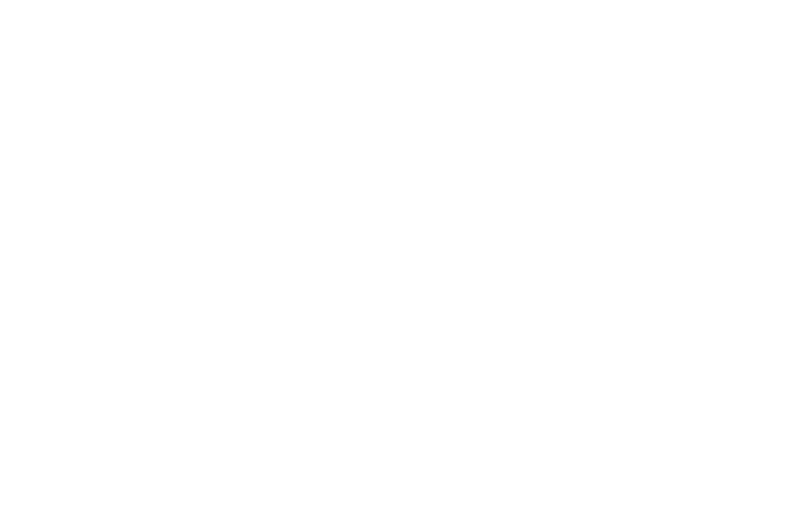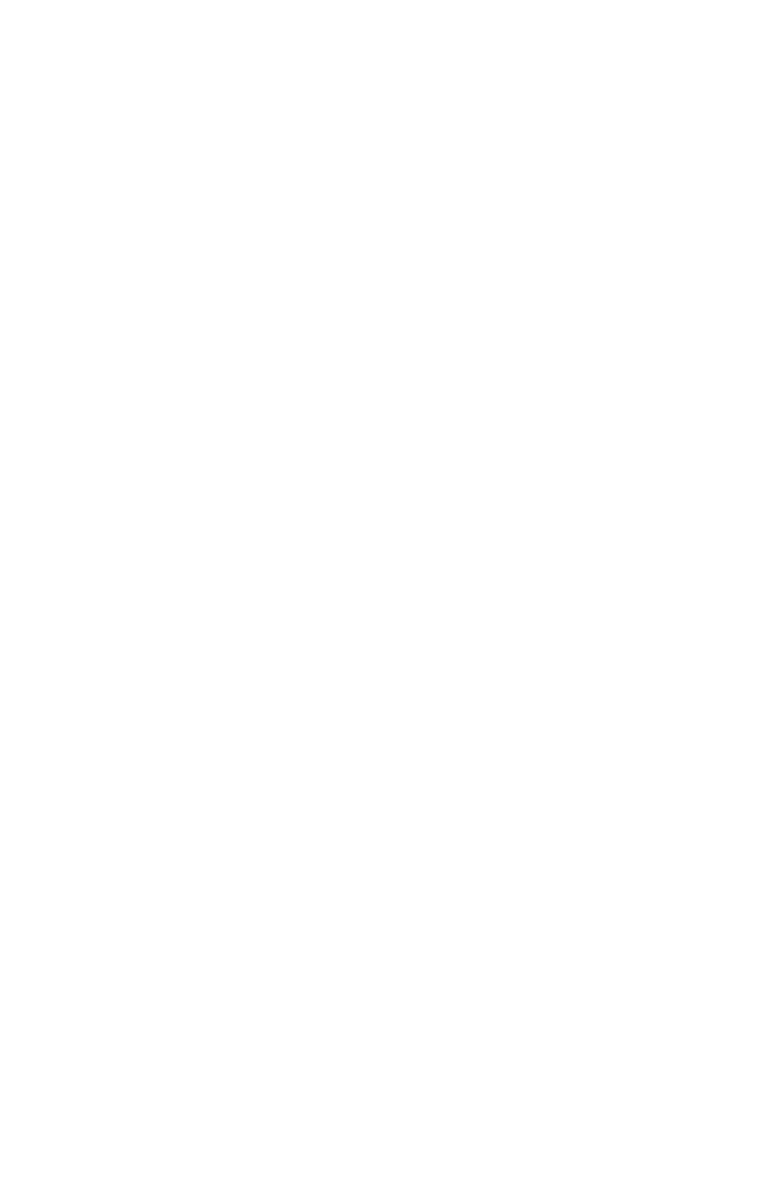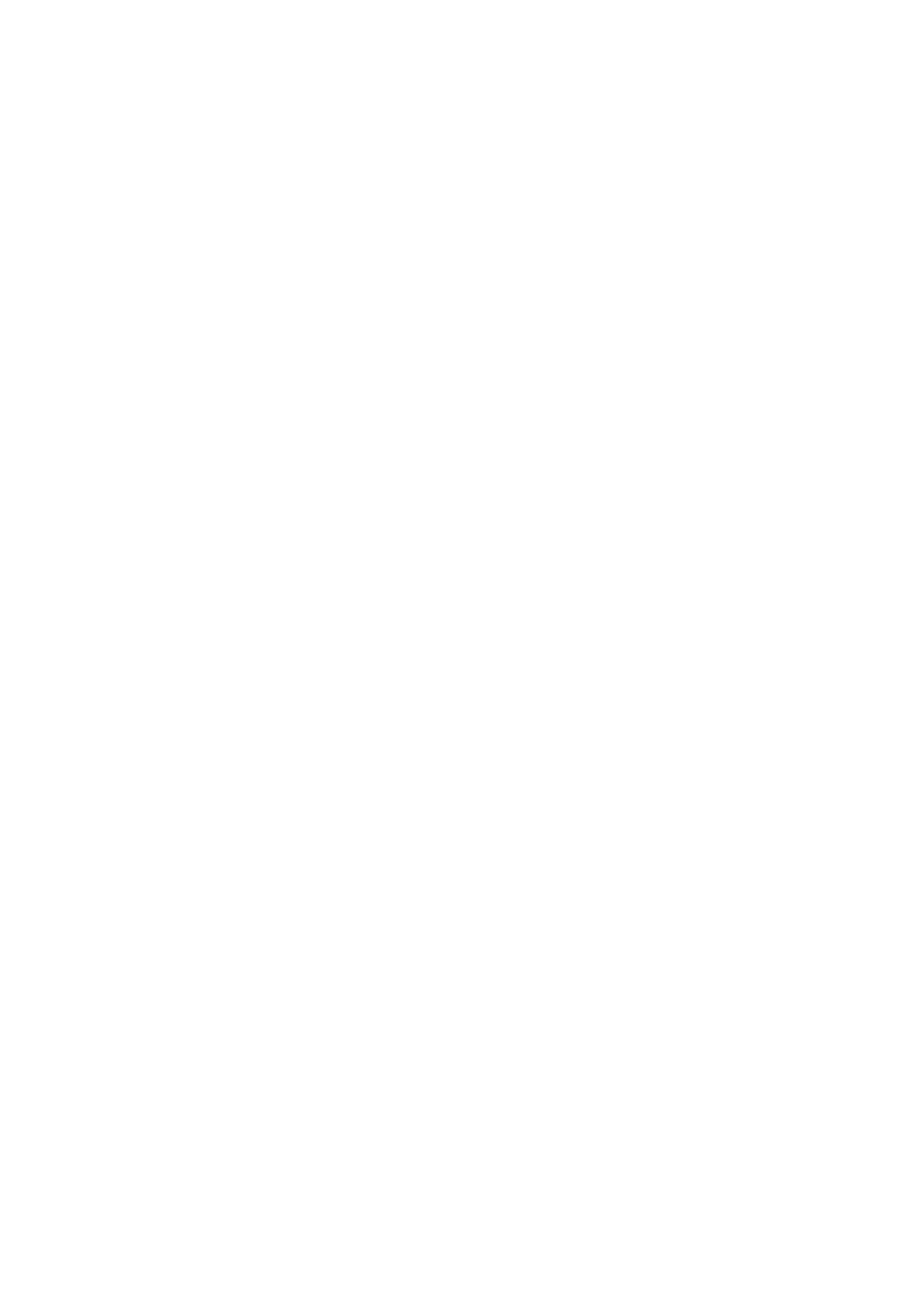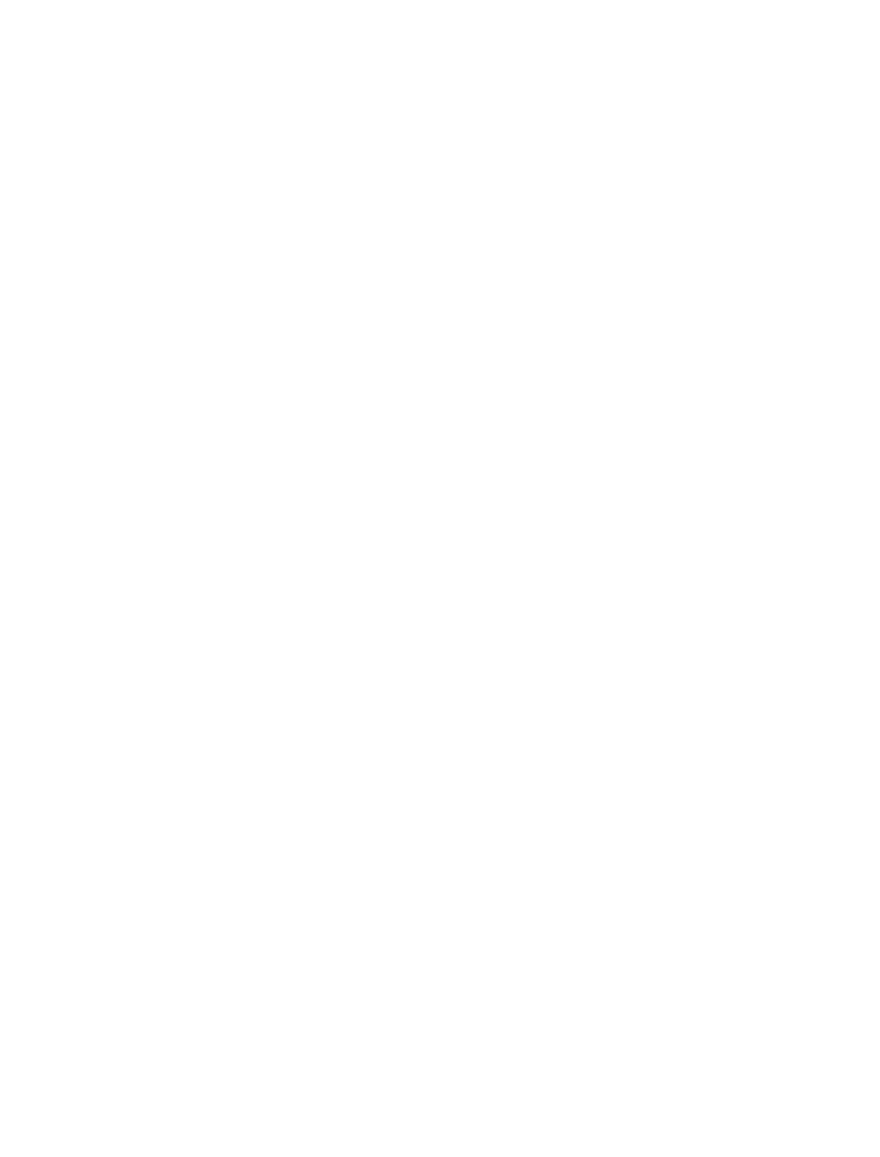VIRA
РУССКИЙ СТИЛЬ
АВТОРЫ
к «Песне о вещем Олеге»
1973 - поступил в художественное училище им. Власова (Астрахань)
1989 - окончил Академию Художеств им. И.Е. Репина с серебряной медалью
Текстъ подъ редакціей В. А. Татцука. Рисунки художника H А. Богатова.
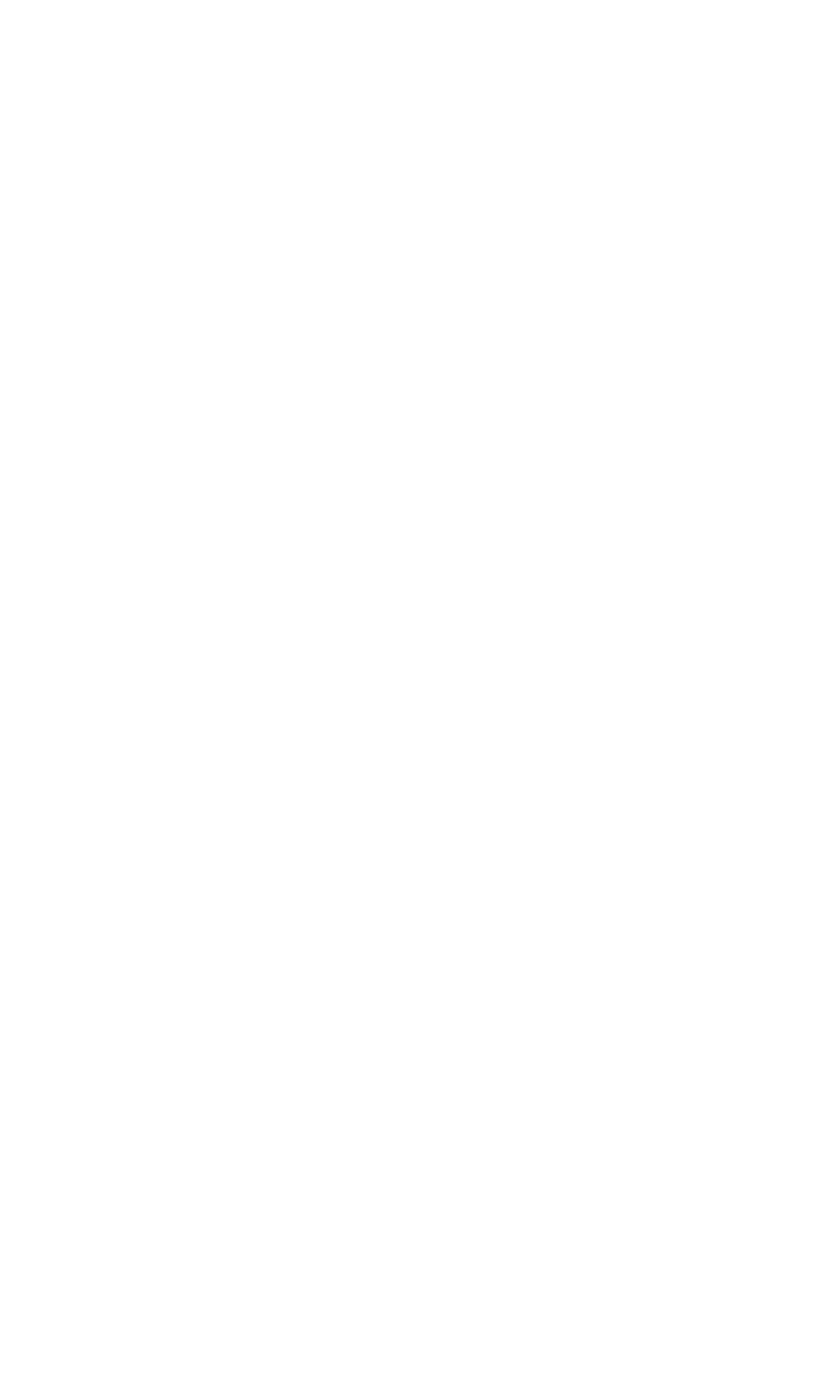
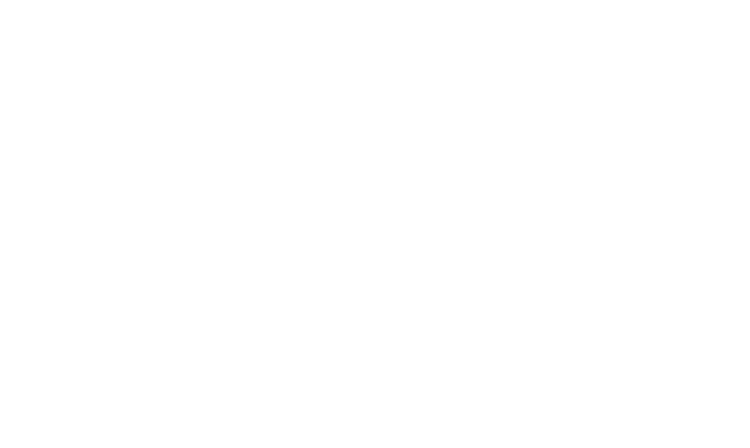
Виктор Глебович Бритвин – один из самых известных и лучших современных иллюстраторов.
Художник родился 10 июня 1955 года.
Выпускник 1983 года мастерской книжной графики профессоров Г.Д. Епифанова и Н. Е. Чарушина графического факультета Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.
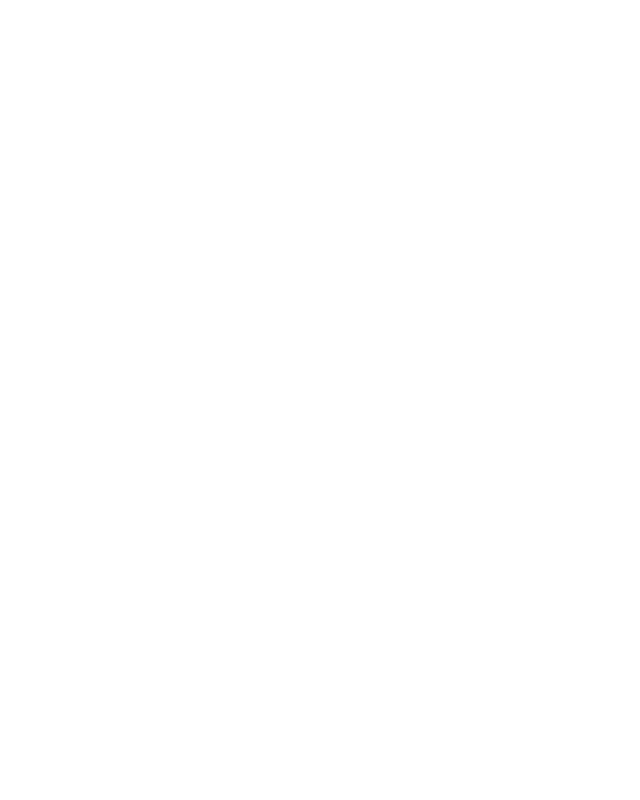
Яна Антонова — профессиональная художница из Саратова, чей стиль привлекает не одной только контрастностью цветов. Основной набор инструментов Яны — тушь, акрил и бумага, в палитре — насыщенный красный, чёрный и белый, за редким исключением — зелёный. Внешне простая, но изящная техника и запоминающийся образ русской красавицы с алыми ланитами (щеками) — визитная карточка художницы, неистощимой на фольклорные и литературные сюжеты.